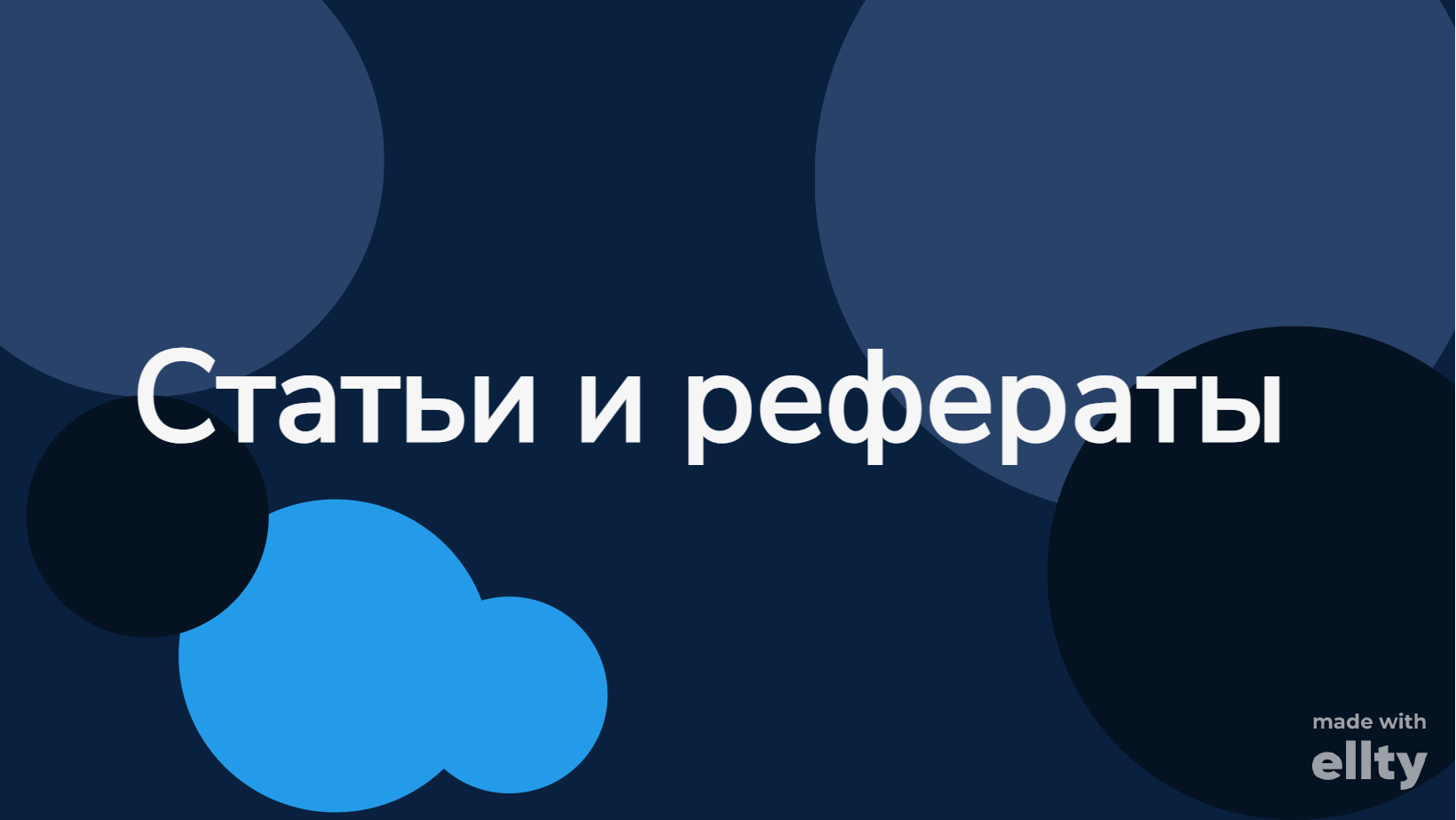
Инфляция эго. Пророки
Юнг К.Г. Отношения между эго и бессознательным
Попытка охарактеризовать такое состояние как “богоподобное” выглядит почти абсурдной. Но поскольку оба они по-своему выходят за пределы своих человеческих “размеров”, в каждом из них есть немного “сверхчеловеческого” и потому, говоря фигурально, богоподобного. Если кто-то хочет избежать употребления этой метафоры, я бы предложил говорить. здесь о “психической инфляции”. Этот термин кажется мне подходящим, поскольку обсуждаемое нами состояние представляет собой распространение личности за индивидуальные границы, другими словами, является состоянием раздутости. В таком состоянии человек занимает место (to fill a space), которое обычно не способен занять. Он может занять его, только присваивая себе содержания и качества, которые прекрасно существуют сами по себе и поэтому должны оставаться вне наших границ. То, что лежит вне нас, принадлежит либо кому-то другому, либо всем, либо не принадлежит никому. Так как психическая инфляция отнюдь не является феноменом, вызываемым исключительно анализом, но столь же часто встречается в обычной жизни, мы можем исследовать ее не менее успешно и в других случаях. Широко распространенный случай — совсем не безобидная манера многих мужчин отождествлять себя со своим делом или своими титулами. Занимаемый мной пост — это, несомненно, моя специфическая деятельность, но вместе с тем и коллективный фактор, исторически возникший благодаря сотрудничеству многих людей, и соответствующий ему титул держится исключительно на коллективном одобрении. Поэтому, когда я идентифицируюсь со своим занятием или титулом, я деду себя так, как если бы был целым комплексом социальных факторов, из которых и состоит моя служба, или как если бы я был не только носителем своего поста, но одновременно и общественным одобрением. Но это значит, что я необычайно расширил себя и узурпировал не свои, внешние по отношению ко мне качества. L'etat c'est moi (Государство — это я (фр.)- Прим. пер.) — вот подходящий девиз для таких людей.
В случае инфляции, вызванной знанием, мы имеем дело с чем-то похожим в принципе, хотя психологически и более тонким. Здесь инфляция обусловлена не достоинством службы, а весьма значимыми фантазиями. Что под этим понимается, я поясню на примере из врачебной практики, взяв случай душевнобольного, с которым мне выпало познакомиться лично и который также упомянут в публикации Maeder (A. Maeder, “PsychoIogische UntersKhungen an Deincntia-Praecox-Krankcn”, Yalirbiich fiir psychoanatytische imcl psychopalhologische Forscliiiiigen. 11 (1910), 209 и далее.). Ибо этот случай как раз характерен высокой степенью инфляции. (У душевнобольных мы можем наблюдать в более грубой и увеличенной форме все те феномены, которые лишь мимолетно обнаруживают себя у нормальных людей.) (Когда я еще работал врачом психиатрической больницы в Цюрихе, то однажды провел одного интеллигентного неспециалиста по отделениям. Прежде он никогда не видел психиатрической лечебницы изнутри. Когда мы закончили наш обход, он воскликнул: “Послушайте-ка! Да ведь это Цюрих в миниатюре! Квинтэссенция общества. Как будто все типы людей, которых ежедневно встречаешь на улицах, были собраны здесь в их классической чистоте. Исключительно чудаки и отборные экземпляры из всех слоев общества — от верхушки до низов!” Я никогда раньше не смотрел на это под таким углом зрения, но мой друг был не так уж неправ.) Больной страдал параноидной деменцией с мегаломанией. Он говорил по телефону с Богородицей и другими великими мира сего и того. В реальной же жизни этот человек был никудышным подмастерьем слесаря, в 19 лет заболевшим неизлечимой душевной болезнью. Он не был одарен умом, но, между прочим, напал на изумительную идею, будто мир — это его детская книжка с картинками, которую он может листать по своему желанию. Доказательство этого было совсем простым: ему нужно было только повернуться, чтобы взору открылась новая страница.
Это и есть шопенгауэровский “мир как воля и представление” в неприкрашенной, примитивной конкретности видения. Идея на самом деле разрушительная, порожденная крайним отчуждением и уединением от мира, но выраженная столь наивно и незатейливо, что поначалу можно лишь посмеяться над ее нелепостью. И все же этот примитивный образ видения составляет самую суть выдающегося шопенгауэрова видения мира. Только гений или безумец мог бы настолько выпутаться из оков действительности, чтобы смотреть на мир как на свою книжку с картинками. Сам ли больной развил или построил такое видение мира или оно просто постигло его? А может быть, он впал с него? Его патологический распад и инфляция указывают скорее на последнее. Теперь уже думает и говорит не он, а оно думает и говорит в нем, ибо он слышит голоса. Таким образом, разница между ним и Шопенгауэром состоит в том, что видение больного остается на стадии чисто спонтанного развития (growth), тогда как Шопенгауэр абстрагировал и выразил то же самое видение на общепринятом языке. Тем самым вырастил его из подземных истоков и вывел на ясный свет общественного сознания. Однако, было бы ошибкой предполагать, что видение больного имело исключительно личный характер или ценность, словно оно принадлежало только ему. Будь это так, он, вероятно, был бы философом. Человек становится гениальным философом лишь тогда, когда ему удается превратить примитивное и чисто природное видение в абстрактную идею, принадлежащую к общему инвентарю сознания. Это достижение, и только оно, составляет его личную величину или ценность, благодаря которой он мог бы заслужить уважение, не впадая при этом в инфляцию. Но видение больного человека есть величина безличная, от естественного роста которой он не в силах себя защитить и которая, фактически, поглотила и “унесла” его прочь от этого мира. Правильнее будет сказать, что именно бесспорное величие видения больного раздувает его до патологических размеров, а вовсе не то, что он овладевает этой идеей и развивает ее до философского мировоззрения. Личная величина (ценность) целиком заключается в философском достижении, а не в первичном видении. Ведь философу это видение тоже достается как равная доля прибыли, ибо оно составляет просто часть общего имущества человечества, долей которого, в принципе, владеет каждый. Золотые яблоки падают с одного и того же дерева, подбирает ли их слабоумный ученик слесаря или какой-то Шопенгауэр.
Однако, из данного примера можно извлечь еще и другой урок, именно, что трансперсональные содержания — это отнюдь не инертные или мертвые материалы, которыми можно завладеть по желанию. Скорее, они являются реалиями (entities), вызывающими живой интерес и оказывающими притягательное действие на сознательный ум. Идентификация с службой или титулом действительно очень привлекательна, — вот почему так много людей представляют собой один только декорум, предоставленный им обществом. Было бы напрасно искать под этой оболочкой личность. В самом низу, под набивкой, можно отыскать лишь очень мелкое, ограниченное создание. Вот почему служба — или что-то еще, что может быть такой оболочкой, — так привлекательна: она предлагает легкую компенсацию личной маломерности.
Внешняя приманка, как-то: посты, титулы и другие социальные регалии, — не единственная причина инфляции. Ведь они просто безличные величины, относящиеся к наружному слою общества, к коллективному сознанию. Но так же как общество находится пне индивидуума, так пне личной психики находится коллективная психика, именно, коллективное бессознательное, скрывающее в себе, как показывает приведенный выше пример, ничуть не менее привлекательные элементы. И так же как один может внезапно войти в мир на своем профессиональном достоинстве (“Messieurs, a present je suis Roy”) (“Господа, сегодня я король” (фр-)- Прим. пер.), так другой может столь же внезапно исчезнуть из этого мира, если ему выпадет жребий созерцать один из тех могущественных образов, которые придают миру иной облик. Речь идет о магических representations collectives (Коллективных представлениях (фр.}. — Прим. пер.), лежащих в основе рекламных лозунгов, модных словечек и, на более высоком уровне, поэтического и мистического языка. Мне вспоминается другой душевнобольной, который не был поэтом и вообще ничем особенным не выделялся, разве что являл собой типичный образец тихого и несколько сентиментального юноши. Он влюбился и, как это часто бывает, не мог выяснить у своей избранницы, нужна ли была ей его любовь… Что касается юноши, то его первобытная participation mystique (Мистическая сопричастность (фр.). — Прим. пер.) приняла на веру, будто его переживания и тревоги были и равной мере переживаниями и тревогами девушки, что на более низких уровнях человеческой психологии — дело весьма обычное. Так он создал сентиментальную любовную фантазию, которая лопнула как мыльный пузырь, когда выяснилось, что та девушка не испытывает к нему никаких чувств. Это привело его и такое отчаяние, что он прямиком направился к реке, намереваясь утопиться. Стояла ночь, и звезды светили ему из темной воды отраженным светом. Ему показалось, будто звезды парами уплывали вниз по реке… Удивительное чувство овладело им тогда; он забыл о намерении покончить с собой и уже не мог оторван, глаз от воды, зачарованный странным, сладостным зрелищем. Постепенно до него дошло, что каждая звезда была лицом и что все эти пары были влюбленными, которые уносились вперед в объятиях грез. И тут к нему пришло совершенно новое понимание: все изменилось — его судьба, разочарование и даже любовь потеряли свое значение и отошли на задний план. Воспоминание о девушке отдалилось, стерлось, но взамен он обрел непоколебимую уверенность в том, что ему обещаны несметные сокровища. Он уже знал, что в находившейся неподалеку обсерватории для него спрятан бесценный клад. Кончилось тем, что в четыре часа утра он был задержан полицией при попытке вломиться в эту обсерваторию.
Что же произошло? В голове бедного юноши промелькнуло дантевское видение, очарование которого вряд ли оказалось бы ему доступным, прочитай он о нем в поэме. Но он увидел этот образ, и зримый образ преобразил его. То, что больше всего мучило, теперь стало далеким; новый и невообразимый даже в мечтах мир звезд, безмолвно прочерчивающих спои пути вдали от этой печальной земли, открылся перед ним в то мгновение, когда он пересек “порог Прозерпины”. Догадка об ожидавшем его сказочном богатстве — а кого не навещала эта мысль? — явилась ему как откровение. Для него, бедной посредственности, это оказалось не по силам. Он утонул не в реке, а в вечном образе, красота которого погибла вместе с ним.
Так же как один может исчезнуть в своей социальной роли, так другой может быть поглощен внутренним видением и, тем самым, потерян для своего окружения. Многие непостижимые изменения личности, подобные внезапным конверсиям и другим влекущим за собой тяжелые последствия душевным сдвигам, происходят от притягательной силы коллективного образа (Leon Daudet в своей книге “l.'Heredo” (Paris, 1916) называет этот процесс “autofecorulation interieure” (“самооплодотворением внутреннего мира”), подразумевая под этим возобновляющееся пробуждение родовой души.), который, как показывает данный пример, способен вызывать настолько сильную инфляцию, что личность распадается полностью. Эта дезинтеграция — психическое заболевание преходящего или постоянного характера, “расщепление души” или “шизофрения”, по терминологии Блейлера (Eugen Bleuler, Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias, впервые опубликовано в 1911 г., пер. на англ. J. Zinkin (New York, 1950).). Патологическая инфляция, конечно, опирается на некоторую врожденную слабость личности против автономии содержаний коллективного бессознательного.
Кингсли П., Катафалк: Карл Юнг и конец человечества. Том 1-2.
Сам Юнг, конечно, быстро признал вечно существующие риски психологической инфляции — то есть некритичного, бездумного, довольно бессознательного отождествления с божественными архетипами — и предупреждал об этом. Он прекрасно сознавал, как обманчивы опасности и как легко мы обманываемся — например, набожный, скромный последователь, возможно, страдает от большей инфляции и даже больше раздут, чем духовный наставник.
Но необходимо добавить, что, когда мы отождествляемся с собой как с людьми, когда мы принимаем наше единство с коллективной человеческой расой — тогда мы страдаем от величайшей инфляции из всех.
Что же происходит, когда мы отождествляемся с прекрасным, скромным, обычным человеком? Ответ очень прост: мы умираем. Когда мы живем, как все, мы и умираем, как все; начинаем терять свои способности, когда достигаем шестидесяти, семидесяти, восьмидесяти, девяноста; впадаем в банальности и совершенно забываем, что такое жизнь.
Когда все учтено и поставлено на должное место — это и есть цена отождествления с архетипом человека
<...> Каждый за последние две тысячи лет, кто совершал огромную ошибку вступления на путь пророчества, устремлялся прямо к психозу, паранойе, шизофрении, безумию, катастрофе. И величайшая трагедия в том, что все эти фигуры, которые прискорбным образом почти впали, или все–таки впали, в тяжелейшую психологическую инфляцию, воображая, что могут играть роль пророка, даже не осознавали тот факт, что родились слишком рано.
Было абсолютно неизбежно, что они стали беспомощными «жертвами» процесса индивидуации, а не сознательными участниками, потому что каждый из них жил «до того, как настало время». Они были достаточно неудачливы, чтобы жить до того, как в мир пришел доктор Юнг — до решающей поворотной точки в истории, когда была создана его психология, чтобы помочь им, чтобы спасти всех претендующих на роль спасителя от самих себя.
Конечно, ирония в том, что реальный человек, страдающий от состояния инфляции — это верный юнгианец, который написал такие слова и так страстно верил в них. Но есть еще большая ирония в том факте, что сам Юнг, вплоть до смерти, не прекращал предупреждать этого человека так настоятельно, как мог: пытался заставить его осознать мощную психологическую инфляцию, жертвой которой он стал, отождествившись так плотно, так губительно, с собственной работой и психологией Юнга.
... если вы достаточно сильны, чтобы стремиться к истине, а также обладаете внутренней крепостью, чтобы справиться с ней, тогда, возможно, стоит дважды подумать, прежде чем глотать массы правдоподобных отрицаний, что Юнг был пророком, и вместо этого обратиться к тому, что он действительно сказал на тему пророчества, когда решил ее затронуть.
Очевидное место, откуда стоит начать — это работа, которая весьма понятным образом, поскольку подходит так близко к разметке неразмеченной территории психики, получила статус практически вводного учебника по юнгианской психологии.
Оригинальная версия датируется 1916 г., когда он еще вел интенсивную борьбу за постижение опыта, задокументированного в Красной книге. В ней он напрямую нацеливается на амбициозность людей, которые настолько слабоумны, что уступают искушению поверить, что они пророки. Затем он заканчивает еще более острым комментарием об опасности «выставить себя» пророком: о спешке стать проповедником для других вместо того, чтобы внимательно следить за собой, безмолвно интегрируя собственные психологические открытия в обычную повседневную жизнь.
И теперь, когда Красная книга была опубликована, совершенно очевидна степень, в которой эти общие предупреждения основаны на личной борьбе Юнга и горьких переживаниях в то время, когда он втайне боролся с тем, что конкретно описывает как свои пророческие амбиции, сражаясь с почти непреодолимым искушением принять на себя роль пророка.
Но двенадцать лет спустя, с еще большим опытом мужчины за пятьдесят, он вернулся к оригинальному тексту и переписал его. Вдобавок к первоначальному предупреждению об амбициях и искушении, которое он оставил нетронутым, он добавил целый новый отрывок о пророчестве и проблеме инфляции. И, судя по тем, кто большую часть столетия либо громко настаивали, либо безмолвно предполагали, что, согласно Юнгу, пророчество — это прямой эквивалент инфляции, психоза и бреда, что для него все пророки — это ложные пророки по самой своей природе, следует полагать, что он сам достаточно ясно выражался на эту тему.
Настоящие пророки обладают силой и добродетелью, чтобы делать то, что никто больше не готов и не способен делать. Они борются изо всей своей мощи против собственных амбиций и тщеславия; способны устанавливать психологическое равновесие, в частности, зная, как смеяться над тем, какие они дураки, и никогда не относясь к себе слишком серьезно. Они сражаются с постоянным искушением выставить себя пророками публично со всеми обычными драмами, которые это влечет за собой.
Пока юнгианец вроде Джеймса Кирша настаивал, что всякий пророк, не испробовавший блага юнгианского анализа, автоматически станет бессознательной «жертвой процесса индивидуации», сам Юнг утверждал, напротив, в течение всей истории пророки всегда служили своему народу как высшие образцы индивидуации.
И, совсем не будучи бессознательными, они самые осознанные наставники и лидеры своего народа; одинокие маяки психологического здоровья.
Пока Эдингер разводит столько чепухи о величайшей слабости пророков, заключающейся в том факте, что они не способны адаптироваться к людям или миру вокруг, сам Юнг указывает, что величайшая сила пророков — как и художников — лежит именно в их неспособности адаптироваться, потому что только так они могут помочь вернуть коллективную неустойчивость обратно к равновесию.
Пока юнгианцы в целом склонны видеть в пророках идеальные образцы инфляции, миниатюрные психологические катастрофы, которые только и ждут момента, чтобы разразиться, Юнг сделал экстраординарный шаг, изобразив их как лучшую защиту людей от высшей психологической катастрофы: как единственных, достаточно сильных, чтобы выстоять против губительного опустошения коллективной, не говоря уж об индивидуальной, инфляции.
И хотя нельзя отрицать, что всякий, имеющий видения или слышащий послания прямо от Бога, сталкивается с очевидным психологическим риском, нельзя также отрицать, что нет ничего опаснее для культуры, чем игнорировать настоящих пророков, которые, несмотря на все свои усилия перестать слышать или не дать себе видеть— все равно приносят послания и видения из другого мира, потому что только они способны воспринимать реальные нужды своего времени.
... стоит вспомнить, что для Юнга самые обычные люди в нашей современной западной культуре совсем не так идеальны, как им кажется. Напротив, каждый человек в наши «страдает от гордыни сознания, которая граничит с патологической».
Но наиболее показательно, что в его глазах даже самый крайний, самый психотический, самый запущенный случай религиозной инфляции в силу исполнения высокой роли пророка не хуже, чем «рационалистический и политический психоз, ставший болезнью наших дней» — коллективный психоз нашего мира


