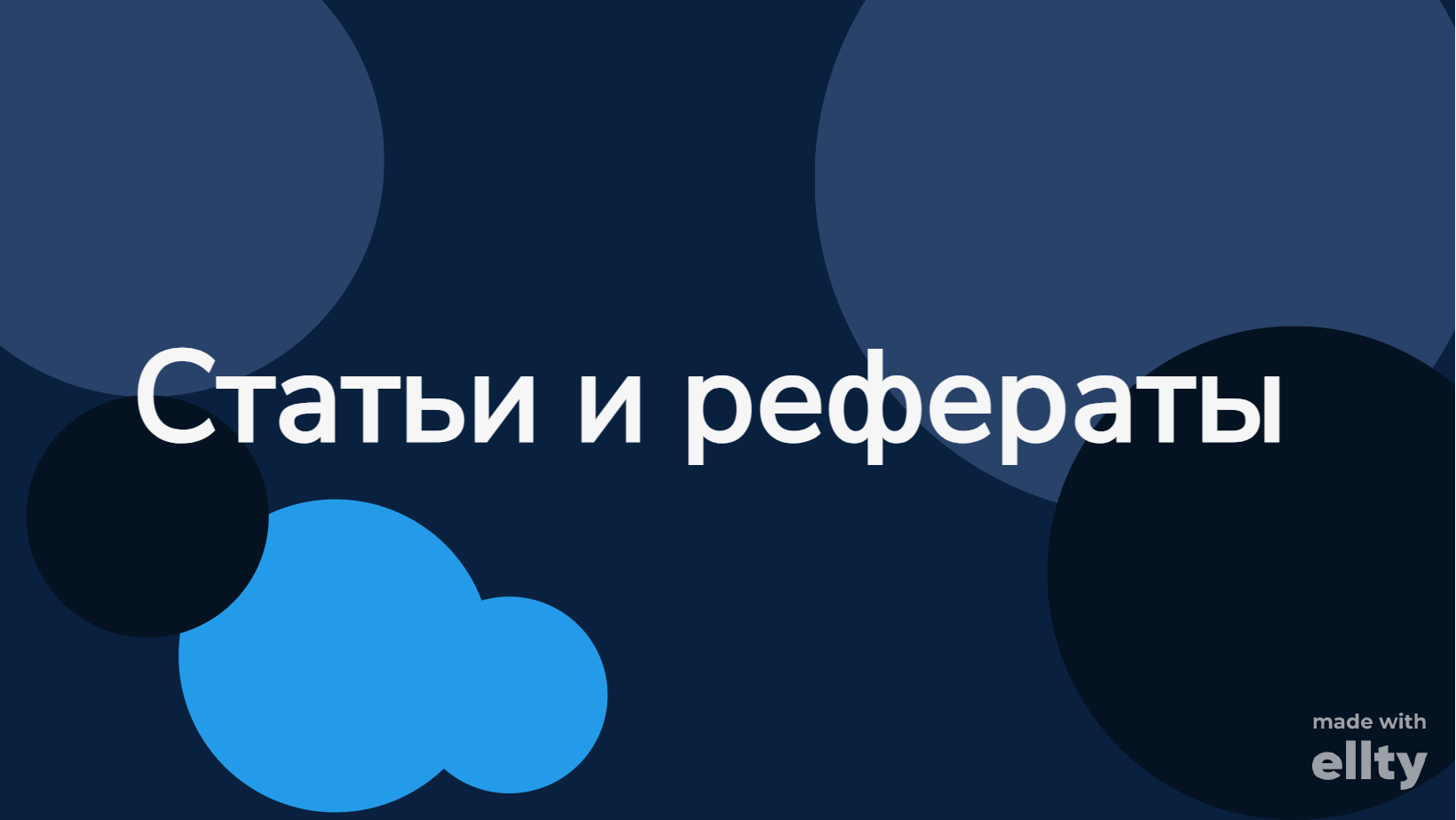
Достоевская. Преступление и исцеление.
Справка по станции метро «Достоевская» в г. Москва

Колонно-стеновая трехсводчатая, глубокого заложения, на глубине 60 метров конечная станция мэра Москвы Юрия Лужкова и начальника метрополитена Дмитрия Гаева. Глубина Станции соответствует глубине творчества Ф.М. Достоевского, украшена сценами четырех убийств и двух самоубийств: убийства старухи процентщицы, Лизаветы, Настасьи Филипповны, Шатова, самоубийства Свидригайлова и Ставрогина. И это смерти только главных героев, второстепенные персонажи гибнут десятками. С «Достоевской» запланировано два выхода и оба на войну: к театру Российской армии и на Суворовскую площадь. Второй выход не построен — тупик.
Ежедневно до 9-и миллионов человек спускаются в столичное метро, отправляются по своим делам родовыми путями подземки, чтобы на своей станции подняться на свет божий из материнского лона, а вечером вновь вернуться в него обратно.
Мрачность станции не рассеивается, но начинает наполняться смыслами если мы видим ее как внутренний мир Достоевского. В этом мире есть свои ад и небеса, убийства и самоубийства воспринимаются как часть обыденной жизни, страдания желательны, жестокость оправдана, травмы, нанесенные матерью не залечиваются отцом, а попытки вырваться на поверхность ведут в изначальное бессознательное.
Для подрастающего поколения роман «Преступление и наказание» посвящен вопросу нравственного выбора между добром и злом. Абстрактные материи и идеалистические категории может и волнуют условного десятиклассника, но жизненной задачей является освобождения из власти родительских комплексов. Это сквозная тема многих героев Достоевского и многомиллионной читательской аудитории по всему миру.
Проще всего назвать молодого человека Родиона Раскольникова индивидуалистом нарциссического склада, мечтающим о величии Наполеона и претендующим на принадлежность к «высшему разряду». Но такая трактовка не соответствует глубине станции «Достоевская». Вопрос Родиона Раскольникова «тварь я дрожащая или право имею» обращен к родительским фигурам. Старуха процентщица воплощает образ Ужасной Матери (материнский анимус, негативный материнский комплекс), а Раскольников находится в ловушке невыносимого выбора, в которой «тварью», «вошью» должна быть или его мать или он сам. Об этом же и страх самого Достоевского быть похороненным заживо — исчезнуть в материнской утробе, превратившись в ничто.
Прочитаем цитату Стефана Цвейга, посвященную Достоевскому, помня о проблеме захваченности родительскими комплексами. Может тогда кажущиеся преувеличения и драматизация будут приняты как уместные.
«В сокровеннейших глубинах мы должны испытать собственную силу сочувствия и сострадания и закалить ее для новой, повышенной восприимчивости: мы должны докопаться до последних корней с его как будто фантастической и в то же время такой подлинной человечностью. Только там, в самых тайных, в вечных и неизменных глубинах нашего бытия, где сплетаются все корни, можем мы надеяться отыскать связь с Достоевским; ибо чуждым кажется внешнему взору этот русский ландшафт, не исхожены здесь пути, подобно степям его родины; и как мало в этом мире от нашего мира! Ничто не ласкает здесь взор, редко манит к отдыху спокойный час. Прорезаемый молниями мистический сумрак чувства чередуется с холодной ясностью ума; вместо согревающего солнца в небе пылает таинственное, истекающее кровью северное сияние. В первобытный ландшафт, в мистическую область приводит нас древний и девственный мир Достоевского и вызывает сладостный страх приближения к вечным стихиям. Но едва успеет остановиться здесь доверчивый восторг, как к потрясенному сердцу подкрадывается предостерегающее предчувствие: здесь нельзя остаться навсегда; надо вернуться в наш более теплый, более уютный, но в то же время более тесный мир... Подымаясь от этого ландшафта к его небу, успокоенный взор находит бесконечное утешение в бесконечной земной печали и предчувствует в страхе — величие, Бога — во тьме» (Цвейг С., Три мастера. Бальзак, Диккенс, Достоевский).
Семейная и национальная травма

Достоевскому не интересны люди, свободные от невротической вины, токсического стыда и захваченности комплексами. Если психоаналитики приветствуют способность контролировать бессознательные драйвы, то психоанализ первый враг достоевщины. Не исключено, что хороший психоаналитик вылечил бы Достоевского от его невроза и сомнительной эпилепсии, но вместе с тем залечил бы и воспаленный нерв его творчества.
Свой «психоанализ» Достоевский проходит не в кабинете, а на каторге. Оказавшись закованным в кандалы он пишет брату о своем излечении: «Если ты думаешь, что я по-прежнему впечатлительный , недоверчивый ипохондрик, - ты ошибаешься, от этого не осталось и следа».
Психоаналитик И. Нейфельд по этому поводу отмечает:
«Достоевский не только перенес мучения одиночества в тюрьме, бесконечные лишения и тяжести, отвратительную грязь, но и вышел из этого ада оздоровленным душой и телом, где другие здоровые... таяли подобно свечке, это объясняется только тем, что в тюрьме бессознательная мысль об убийстве бессознательно же исчезла и поэтому все лишения, страдания и тягости переносились с большой радостью» (Достоевский. Психоаналитический очерк под редакцией З. Фрейда).
В этом странном оздоровлении вблизи с "униженными и оскорбленными" нет ничего удивительного, если иметь ввиду, что невротическая вина детства «лечится» обвинением — виновен за то, что не донес на товарища и наказан за мыслепреступление. Наказание со стороны отца не соразмерно порывам юности, но оно отменяет тяжесть вины, бунт против отца и ненависть к нему навсегда вытесняются в бессознательное и заменяются благодарностью. После этого Достоевский становится заступником «бедных людей», выбирая при этом тех, кто никогда не поставит под сомнение святость власти и монаршее право на насилие. Передавая национальное мироощущение безысходности он отказывается связывать собачью жизнь, которую влачат его подзащитные с деспотизмом власти. В противном случае ему пришлось бы вновь встретиться с вытесненной ненавистью к отцу.
«Достоевский так никогда и не освободился от мук совести из-за намерения убить отца. Эти муки определили и его отношение к двум другим сферам, имеющим мерилом отношение к отцу, — к государственной власти и к вере в Бога» (З. Фрейд, Достоевский и отцеубийство).
После освобождения с каторги и повторной женитьбы слушателем, помощником и домашним аналитиком Достоевского становится Анна Григорьевна, записывающая под диктовку истории героев произведений, а писатель пишет из себя и достает из своего подполья людей, которые больны теми же комплексами, что и он сам. Здесь во всю силу проявляется Достоевский как гуманист, оправдывающий тех, кому в силу своей слабости должно быть ничтожным, эгоцентричным и совершающим злодеяния. Как раненный целитель он понимает происхождение их комплексов, но не может излечить своих героев не излечившись сам.
Единственно кого не прощает Достоевский это тех, кто помышляет об убийстве царя, к которым он и сам был когда-то причислен и на которых проецируется вытесненная ненависть к отцу. Достоевский остается в коллективной травме и присоединяется к культурной установке о незыблемости монархии как основы государства. Писательский психоанализ не состоялся, но при этом были созданы произведения, в которых во всей полноте выразился национальный комплекс безотцовщины и потребность в коллективном отце.
Будучи тонко чувствующим и сострадательным, Достоевский становится равнодушным и жестоким к пострадавшим от пыток. Насилие и наказания провинившихся он оправдывает и воспринимает как родительский наказ и необходимое воспитание.
«Ни капли возмущения нельзя найти даже между строк, когда он рассказывает о тысячах палочных ударов, опускавшихся на спины несчастных узников за малейшее проступки. Отвратительнейшие жестокости зверских начальников передает он с эпическим спокойствием, чуть ли не с некоторым даже удовольствием <...> Смесь садизма и мазохизма очевидна, когда он, например, рассказывает о зверском начальнике , который вначале вызывал у арестанта надежду <...>, а затем, смеясь как сумасшедший над арестантом, так горько разочаровавшемся, поощрял солдат к еще более бесчеловечным ударам» (И. Нейфельд, там же).
Похожую эмоциональную тупость можно встретить у современных государственников, живущих верноподданническими чувствами в отношении к коллективному отцу. Оставаясь живыми и эмоционально откликаемыми в большинстве других ситуаций они отключаются от способности сопереживать и впадают в рационализации когда речь заходит о пытках и убийстве врагов государства.
Что известно об отце Достоевского? Он был жестоким, жадным, требовал неукоснительного послушания и его убили крестьяне. В творчестве писателя этот типаж, наряду с его противоположностью в виде пропащего отца определяет отцовский образ — «отец у них какой-то такой, о котором даже и говорить стыдно» («Братья Карамазовы»).
Определяющей характеристикой отца из произведений Достоевского является его недостаточность. Он не способен вывести в люди, лишен родительского авторитета, пребывает на дне, пьянствует, предается разврату, нищенствует, сидит на каторге или убит сыном. Этот отец не может быть опорой когда приходит время освободиться от материнского захвата. Он сам находится во власти материнского архетипа и не является носителем цивилизационного отцовского начала.
При беспомощном отце мать заедает детей и вырваться от нее можно лишь убив ее на манер Родиона Раскольникова. Образ ужасной матери, которая дает под проценты и опутывает людей в паутину долгов представлен Достоевский так, что мало у кого возникнет сожаление об убийстве «гнусной старушонки». Вдова процентщица это не просто «старуха» 60-и лет, а Ужасная мать русского коллективного сознания. «Родя, позвони», «Родя, мы с тобой» — пишут современные подростки в подъезде дома, где по воле автора жил Раскольников. Решить проблему буквально — расколоть ей голову представляется единственно возможным и логичным решением.
Известно как Гефест — «раскольников» античного мира раскроил топором голову отцу Зевсу, чтобы родилась Афина, воплощающая волю к жизни и разум в женском обличье. Он совершает символический акт рождения света из отцовского архетипа. Раскольников же убивает старуху и все, чего добивается этим — это высвобождение коллективной Тени с последующими муками совести. Похожие переживания ненависти и вины возникают у девушек и юношей 18+, которые растут без отца в безуспешных попытках вырваться из материнских объятий. Рецепт Достоевского — Раскольникова заключается в том, чтобы мать умерла или была убита.
Реальная мать Достоевского умерла, когда будущему писателю было 15 лет, а вся ненависть к покинувшей его матери Достоевский через Раскольникова обрушил на процентщицу, лишив ее жизни и одним ударом освободился от долговых обязательств.
После убийства Раскольников раскаивается, сдается на милость царского (отцовского) правосудия, переходит на отцовскую сторону, но так и не освобождается от материнского комплекса. В лице Сони (Софьи Семеновны Мармеладовой) он находит страдающую и милосердную мать, которая внешним обликом похожа скорее на ребенка. Соня воплощает его душу, аниму, образ русской Магдалиной, захваченной материнским архетипом и не имеющими контакта с Эросом. В конце романа Достоевский превращает Соню в коллективную мать каторжан и практически в святую. Без страстей не может быть святости, но страстность девушки носит религиозный характер, Соня становится святой юродивой, так и не став женщиной. Грешница или святая — другого женского предназначения нет ни у Достоевского, ни в коллективном русском сознании.
Женщины дают мужчинам материнскую сострадательность, мужчины ждут этого материнского от своих женщин, те и другие ненавидят друг друга, так как не могут вырасти, не выплатив растущие с каждым годом проценты материнского комплекса.
Мужчины - положительные герои Достоевского представляют собой "незачеловеков". Они лишены маскулинной фаллической силы, не достигли зрелого контакта с феминным в себе и способны получать наслаждение лишь подчиняясь женщине, либо предаваясь извращениям. Троекратное «наслаждение» звучит в одном небольшом абзаце "Идиота.
«Клянусь, если б возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала бы мне: «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением. Я знал это. Так или эдак, но это должно было разрешиться. Все это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий, - эта мысль я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение… Мне кажется, она смотрела на меня как та древняя императрица, которая стала раздеваться при своем невольнике, считая его не за человека. Да, она много раз считала меня не за человека…»
Влечения по Достоевскому не регулируются физическими и социальными законами, но и нравственные мотивы часто бессильны противостоять им. У самого Достоевского далеко не всегда получалось регулировать свое импульсы нравственными ограничениями и выстраивать личные отношения, руководствуясь этикой.
Своего героя «Записок из подполья», Достоевский заставляет говорить следующее: «Развратничал я уединенно по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставляющим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившие в такие минуты до проклятия».
Фрейд, читавший романы Достоевского, восхищавшийся психологизмом и силой проникновения в тайники человеческой психики тем ни менее не испытывал к нему личной симпатии, называя «русским путаником».
«Достоевский уязвим, скорее всего как моралист. Признавая его высоконравственным человеком на том основании, что высшей ступени нравственности достигает только тот, кто прошел через бездны греховности, мы упускаем из виду одно соображение. Ведь нравствен тот, кто реагирует уже на внутренне воспринимаемое искушение, не поддаваясь ему. Кто же попеременно то грешит, то в раскаянии берет на себя высоконравственные обязательства, тот обрекает себя на упреки, что он слишком удобно устроился. Такой человек не осуществляет самого главного в нравственности — самоограничения... Он напоминает варваров эпохи переселения народов, которые убивали и каялись в этом, так что покаяние становилось всего лишь приемом, содействующим убийству... Достаточно бесславен и конечный итог нравственных борений Достоевского. После самых пылких усилий примирить запросы индивидуальных влечений с требованиями человеческого сообщества он вновь возвращается к подчинению мирским и духовным авторитетам, к поклонению царю и христианскому Богу, к черствому русскому национализму, к позиции, к которой менее значительные умы приходили с меньшими затратами сил. В этом слабое место большой личности. Достоевский упустил возможность стать учителем и освободителем человечества, он присоединился к его тюремщикам» (З. Фрейд, Достоевский и отцеубийство).
Психоанализ не состоялся, ощущение своей недостаточности, чувство вины, повышенная обидчивость, вспышки злобы, «полубесновато-полусвятое» ощущение мира (Ф.Б. Достоевский) остались неизменны. В итоге Достоевский с его вечными вопросами о природе добра и зла известен сегодня как экзистенциальный мыслитель. Таким его воспринимает большинство читателей и исследователей. При этом стоит отметить, что он вполне может быть назван первопроходцем в юнгианские дебри русского коллективного бессознательного, ищущим во тьме свет.
В Тени станции "Достоевская"

Что-либо говорить о теневой стороне станции вроде как не уместно и даже глупо. Она на девять дестых погружена в Тень, а Достоевский исследовал себя так, что мало кто еще мог бы осмелиться на такое героическое предприятие без гарантии на успех. Попытаемся увидеть скрытый свет этой теневой станции.
Посвятив литературный талант исследованию человека Достоевский создал драматические образы людей из подполья, разрушающих себя страстями и оставил в стороне то, что называют обычным человеческим счастьем. Все, что так усиливает и питает эго, все чему может радоваться и стремиться человек в обычной жизни оказалось теневым. Не только еда, секс, деньги, успех, домашний уют, детско-родительскую любовь, любовь между мужчинами и женщинами, но и стремление к равновесию, соразмерности, интегрированности, все это можно долго искать и не найти в произведениях Достоевского.
В мире Достоевского есть огромный дефицит зрелой любви, соединяющей высшие чувства и сексуальность. Где-то ведь должны быть, но мы не видим здоровых влечений, притягивающих мужчин и женщин и не видим счастливого брака как возможного следствия этих влечений. Женатые пары, живущие в согласии без атмосферы зависимости, супруги, любящие своих детей, занимающиеся сексом Родион с Соней могут быть только в каком-то другом романе и у другого писателя.
В Тени станции остается не проявленной чувственность, свободная от родительского ига и не подавленная моралью. Соня в «Преступлении и наказании» асексуальна и всем своим умонастроением принадлежит раю, Настасья Филипповна в «Идиоте» бегая от Рогожина к Мышкину мечется между адом и раем, безымянная сирота в «Кроткой», принятая в услужение к ростовщику — бесу покончила с собой, выйдя в окно... — все женщины в творчестве Достоевского по своему несчастны и не могут состоятся как женщины.
Также у него нет и счастливых мужчин. В понимании Достоевского мужчина ждет от женщины не столько страсти, сколько жалости, гуманности и сострадания, характерных для материнского начала. Мужчины живут с неразрешимой дилеммой между небесной и земной любовью. Инцестуозная привязанность к матери не дает разрядки половому желанию и сексуальное желание удовлетворяется только с женщинами, максимально не похожими на мать.
О таком расщеплении любовного чувства писал З. Фрейд:
«Когда они любят, они не желают обладания, а когда желают, не могут любить. Главным средством против такого нарушения, которым пользуются люди с расщепленным любовным чувством, является психическое унижение полового объекта, в то время как переоценка, присущая при нормальных условиях половому объекту, сохраняется для инцестуозного объекта и его заместителей» (Фрейд З., Об унижении любовной жизни).
В Тени нравственности и религиозности скрываются неутоленная потребность в материнском принятии, страх отцовского наказания и детская ненависть к отвергающим родителям. В этом смысле гуманность, нравственность, мораль и религиозные взгляды становятся убежищем от влечений, воспринимаемых как зло и повод для наказания.
«В русской культуре Зло/Тень очень сильно связано с Великой Матерью в ее негативном аспекте. Она вообще не пускает даже думать про мир Зла/Тени, и уж тем более про то, что в Тени / Царстве Дьявола / Зла может быть какая-то иерархия и порядок, характерные для отцовского мира и отцовской Тени» (Павликова Н.А., Сравнение отношения ко Злу/Тени в западной и восточноевропейской культурах).
Чего чего, а зла на этой станции предостаточно, но если оно творится бессознательно когда человек принадлежит миру матери и не отвечает за последствия содеянного, то зло становится заменой любви, ведет к зло-радству, наслаждению и становится бесконечным.
Все, что может задать границы злу — это порядок отцовского мира. Здесь ты не можешь быть не наказан другими или самим собой, не можешь не испытывать чувства вины, так как сознание рождается вместе с Тенью и проявляя свои желания, разделяя их на позволительные и запрещенные формируешь свою Тень. Приговор вынесен с самого рождения, ты виновен и в том, что имеешь желание жить, получать все и сразу и в том, что хранишь эти желания тайно от других в своем бессознательном. Чтобы ты не делал и куда бы ни шел, какие бы не одевал маски, но дорога к себе целостному лежит через темную сторону желаний и влечений, воспринимаемых как зло.
 «Зло для героев Достоевского является притягательным не само по себе, а потому что призвано выполнять функцию замещения добра в ходе человеческого самоопределения, погружения в свободу. Но такого рода «погружения» влекут за собой болезнь как психологического, так и физиологического плана <…> Болезнь становится связующим звеном между добром и злом» (Мевлютов Ш.М., Философского-этические проблемы в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»).
«Зло для героев Достоевского является притягательным не само по себе, а потому что призвано выполнять функцию замещения добра в ходе человеческого самоопределения, погружения в свободу. Но такого рода «погружения» влекут за собой болезнь как психологического, так и физиологического плана <…> Болезнь становится связующим звеном между добром и злом» (Мевлютов Ш.М., Философского-этические проблемы в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»).
Не совершая зла, не будучи захваченным своей Тенью и не испытав болезни, не почувствуешь свободы от вседозволенности. Не встретившись с абсолютной свободой сверхчеловека не узнаешь ужасов, которые она влечет. Не впадая в ужас от вида содеянного, не переживая вины и стыда, не примешь идею необходимости сознательного самоограничения — отцовского закона в себе в том виде, в каком он необходим каждому человеку. Лишь проходя через страх отцовского наказания, через ненависть к нему и желание уничтожить можно прийти к осознанному самоограничению и отделению себя от зла, чтобы не увеличивать его количество в мире. В результате кто-то смеряет свои потребительские инстинкты, перестает воровать, лгать себе и другим, кто-то становится мягче, сердечнее и терпимее к своим близким, оставляет идею мести родителям или другим людям, причинявшим боль, познает благодать прощения и пр.пр.
Так проходя сложный путь исцеления материнского и отцовского комплексов человек обретает право жить своим умом и по своим нравственным законам.
Исцеление
Не касаясь нравственных исканий писателя отметим лишь, что сознание Достоевского оставалось во власти отцовского комплекса вплоть до 55-и лет, когда он займется «одной художнической работой, сложившейся <…> неприметно и невольно». Эта работа стала романом «Братья Карамазовы», известным как итог творчества писателя. Достоевский планировал, но не успел написать второй том этого романа, а мы получаем возможность продолжить замысел автора, угадывая движения его души и путь исцеления.
Ещё при жизни Достоевского появилась газетная заметка о возможном содержании второго тома. Журналист пишет: «…из кое-каких слухов о дальнейшем содержании романа, слухов, распространившихся в петербургских литературных кружках, я могу сказать <…> что Алексей делается со временем сельским учителем и под влиянием каких-то особых психических процессов, совершающихся в его душе, он доходит даже до идеи о цареубийстве».
В одном эпизоде Иван Карамазов рассказывает Алеше о жестокости турок и предполагает, что сам человек создал дьявола по своему образу и подобию. Алеша не спорит, не отрицает и лишь говорит, что в таком случае и Бог создан человеком. У Алеши эта идея звучит как ответственность за свой созданный мир, основанный на ценности нравственного выбора.
Образ отца открывается Достоевскому в полной мере с той дьявольской стороны, которая была недоступна прежде и теперь перед ним литературная задача соединить противоположные аспекты отцовского образа воедино.
Через Ивана Карамазова Достоевский показывает запретное желание. Признаваясь себе в этом желании он тем ни менее не может принять убийство отца как осознанный выбор. План реализуется как бы независимо от него руками Смердякова (по слухам был незаконнорожденный брат Ивана). Подавленная ненависть к отцу могла вскрыться и выразиться лишь в том, кто «из банной мокроты завелся», из такого «ничтожного» персонажа как Смердяков. Такова Тень Ивана Карамазова и самого автора.
Достоевский понимает безуспешность решения проблемы, которая отдана на откуп теневым желаниям без признания реальности зла в себе. Если Родион Раскольников после убийства матери оказывается на каторге — в пространстве Ужасной Матери, то Иван Карамазов сходит с ума и не может отвязаться от черта. Насколько бы ни был мерзок отец Карамазов его убийство не дает исцеления. Дьявольское в отце преследует и доказывает, что оно реально и не является пустой фантазией Ивана. Чтобы спастись — интегрировать эту Тень нужно признать ее реальность.
Спасение не имеет прямого перевода с религиозного языка на психологический и юнгианский. Но мы можем говорить о соответствиях исходя из того, что откровения, которые пережил Достоевский лично имеют нуминозную природу, открывающую интуитивное сверхчувственное видение и решение проблемы на символическом уровне. Алеша бездеятелен и безволен, но его сила заключается в глубине переживаний и силе веры, часто в сознательном отказе от действия.
В «Братьях Карамазовых» появляется образ старца Зосимы. Достоевский указывает на безусловный авторитет тех лиц, которые наделены этим «рыцарским» титулом. В Зосиме — «хранителе божьей правды» как в точке пересечения координат соединяются архетип Великой Матери и архетип Духа — духовного отца, через связь с которыми Достоевскому открывается полнота интуитивного знания о природе человека так, что «самое мрачное лицо обращалось в счастливое».
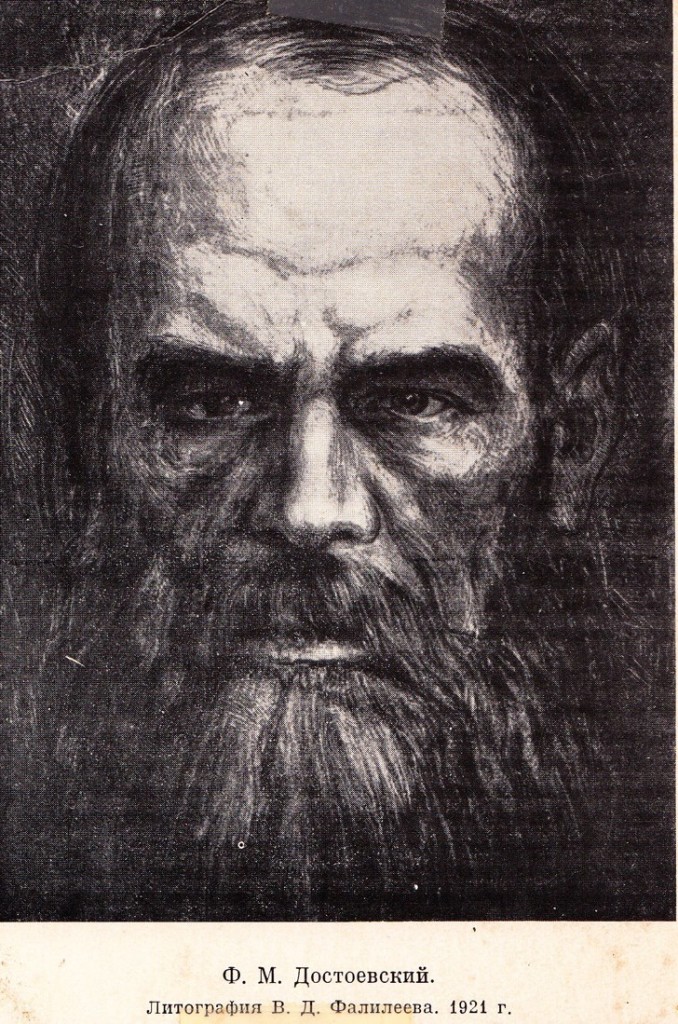 В чем суть учения Зосимы и рецепт исцеления Достоевского?
В чем суть учения Зосимы и рецепт исцеления Достоевского?
1. Каким бы ни был опыт взаимодействия с реальной матерью у любого человека всегда остается возможность найти свой рай на земле через связь с Природой.
«Каждый листик, каждый луч божий любите, — говорит старец. — Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь её познавать всё далее и более, на всяк день. И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемирною любовью».
Здесь Зосима выступает как проповедник языческого дохристианского мировоззрения пантеизма. Природа здесь является живой и одушевленной, а человек как ее часть связан с ней духовно, нравственно и телесно.
В природном и плотском открывается Эрос, который у Достоевского обычно представлялся постыдным и аномальным.
"Какая грязь! — воскликнула она с отвращением.
Мне всё равно, — продолжал я. — Знаете ли еще, что нам вдвоем ходить опасно: меня много раз непреодолимо тянуло прибить вас, изуродовать, задушить <…> Я люблю без надежды и знаю, что после этого в тысячу раз больше буду любить вас" ("Идиот").
Соприкосновение со злом, наслаждение «срамом разврата», веселящая игра девочки Лизы Хохлаковой с чертями, гипертрофированная чувственность распутных героев связана с игрой силы Эроса с разрушительными силами Танатоса. Игра серьезнейшая, определяющая все мироощущение и зачастую заканчивающаяся не в пользу Эроса.
Проповедь Зосимы гласит, что соединяя животную чувственность с любовным чувством, плотское с естеством природы можно вернуть утраченную соприродную радость и почувствовать внутреннее единство. Иван Карамазов говорит, что «нет добродетели, если нет бессмертия», а Зосима видит, интуитивно чувствует это бессмертие в природных циклах и в человеке, принадлежащем природному миру.
2. Отцовская часть проповеди Зосимы посвящена нравственному закону. Ложь, говорит старец, является первопричиной зла и поэтому
«самое главное — не лгите <…> главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям, и доходит совсем до скотства в пороках своих, а всё от беспрерывной лжи и людям и себе самому. Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может», «все минется, одна правда останется».
Второй завет, убедительность которого выношена годами в том, что повсеместная ложь и грех не должны отрицаться, а чтобы не бояться греха: «любите человека и во грехе егo».
Таково «новое сознания» Зосимы — Достоевского и рецепт превращения без-образного в терпимое, а терпимого в заслуживающее любви. Достоевский приходит к этому сверхчувственному видению через глубокие религиозные откровения, пережитые лично. Можно присоединиться к замечанию о том, что из романа в роман Достоевский воспроизводит «архетип человеческого сознания/поведения как поведения внутренне чуждого и по своей этической сущности бесконечно превосходящего общепринятый кодекс нравственности» (Сердюченко В. Л., Достоевский и Чернышевский), а в его эпилептических «моментах истины» («Идиот») видит свет архетипической реальности.
Ассоциации и амплификации
«Некому березу заломати» (Александр Башлачев)

Уберите медные трубы!
Натяните струны стальные!
А не то сломаете зубы
Об широты наши смурные.
Искры самых искренних песен
Полетят как пепел на плесень.
Вы все между ложкой иложью,
А мы все между волком и вошью.
Время на другой параллели,
Сквозняками рвется сквозь щели.
Ледяные черные дыры —
Окна параллельного мира.
Через пень колоду сдавали
Да окно решеткой крестили.
Выдля нас подковы ковали
Мы большую цену платили.
Вы снимали с дерева стружку.
Мы пускали корни по новой.
Вы швыряли медную полушку
Мимо нашей шапки терновой.
А наши беды вам и не снились.
Наши думы вам неикнулись.
Вы б наверняка подавились.
Мы же — ничего, облизнулись.
Лишь печаль-тоска облаками
Над седой лесною страною.
Города цветут синяками
Да деревни — сыпью чумною.
Кругом — бездорожья траншеи.
Что, реке торопимся, братцы?
Стопудовый камень на шее.
Рановато, парни, купаться!
Хороша студена водица,
Да глубокий омут таится —
Не напиться нам, не умыться,
Не продрать колтун на ресницах.
Вот тебе обратно тропинка
И петляй в родную землянку.
А крестины там иль поминки —
Все одно там пьянка-гулянка.
Если забредет кто нездешний —
Поразится живности бедной,
Нашей редкой силе сердешной
Да дури нашей злой-заповедной.
Выкатим кадушку капусты.
Выпечем ватрушку без теста.
Что, снаружи — все еще пусто?
А внутри по-прежнему тесно…
Вот тебе медовая брага —
Ягодка-злодейка-отрава.
Вот тебе, приятель, и Прага.
Вот тебе, дружок, и Варшава.
Вот и посмеемся простуженно,
А об чем смеяться— не важно.
Если по утрам очень скучно,
То по вечерам очень страшно.
Всемером ютимся на стуле.
Всем миром — на нары-полати.
Спи, дитя мое, люли-люли!
Некому березу заломати.
(1984)
Расстрел за недонесение

«отставного инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева, лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием» (Приговор военно-судной комиссии).
Исполнение приговора было отменено в последнюю минуту после мучительного 20-и минутного ожидания расстрела. По резолюции Николая I казнь была заменена Достоевскому 4-летней каторгой с лишением «всех прав состояния» и последующей сдачей в солдаты.
Пророчества Достоевского
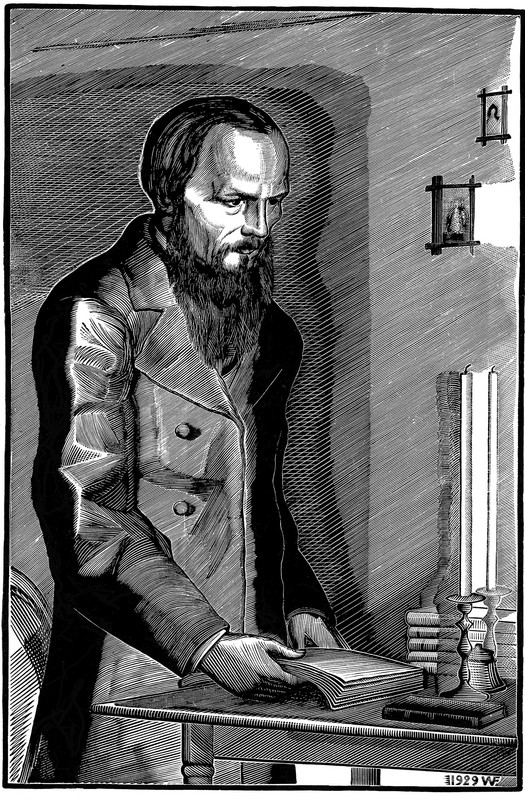
«Ничто «достоевское» не проходит, ничто не уходит. Мне даже кажется, что русская жизнь будет до тех пор несчастной, пока будет завязана на Достоевском. Русская жизнь начиталась Достоевского! Она не специально следует ему, она не подражает ему по-обезьяньи. Но — роковым образом воспроизводит все то, о чем он писал. И в то же время Россия не усвоила уроки «Бесов» и «Братьев Карамазовых». И раз за разом, десятилетие за десятилетием воссоздает заложенные там смыслы. Вот парадокс писателя, вот загадка…» (Сараскина Л., Пророчества Достоевского).
«Ничто «достоевское» не проходит, ничто не уходит. Мне даже кажется, что русская жизнь будет до тех пор несчастной, пока будет завязана на Достоевском. Русская жизнь начиталась Достоевского! Она не специально следует ему, она не подражает ему по-обезьяньи. Но — роковым образом воспроизводит все то, о чем он писал. И в то же время Россия не усвоила у «Пока жива Россия, Достоевский будет актуален. То есть он будет актуален всегда...
Романы Достоевского имеют загадочную судьбу. Они — цикличны. Проходит десять лет, и вдруг ты смотришь: опять бесы, опять это бесовщина, и люди ничего не чувствуют, ничего не понимают. Слушая иногда думских политиков, я ужасаюсь: они, сами не зная того, воспроизводят монологи Петруши Верховенского или Шигалева. Но сами — не осознают этого, поскольку только слово «Достоевский» знают. И говорят, произносят бесовские монологи, которые Достоевский высмеял, вытащил на поверхность и, казалось бы, обличил...
Достоевский кричит нам со страниц романа: «Смотрите, что делается! Вы пропускаете важнейшие моменты своей жизни! У вас есть точка боли — идите туда, будьте рядом…» (Сараскина Л., Головко О., Когда закончится Достоевский?).
Кустурица и Достоевский
Известный сербский режиссер приступил в Китае к съемкам фильма по произведениям Федора Достоевского.
В интервью Кустурица рассказывает, что «в этом фильме будет говориться о моральных дилеммах, которые поднимаются в творчестве Достоевского, однако эти темы будут затрагиваться в другой обстановке. Идея в том, чтобы показать важнейшие аспекты творчества Достоевского с точки зрения китайского общества и тем самым еще более приблизить позицию русского классика к современности».
В центре сюжета — молодая китаянка, которая из-за проблем со зрением видит мир перевернутым. Девушка собирает деньги на дорогостоящую операцию, которую ей готовы сделать во Франции. Ей многие помогают, но отец все пропивает и проигрывает. В результате китаянка знакомится с богатым мужчиной. Он готов дать ей необходимую сумму, но при одном условии — девушка должна стать его любовницей.
Японская манга - 罪と罰 (цуми то бацу) и Достоевский банзай
.jpg)
«Преступление и наказание» - манга Осаму Тэдзуки, основанная на одноимённом романе Ф.М. Достоевского.
«Никто никогда не задумывался, сколько смертей в романах Достоевского, в тех же «Братьях Карамазовых»... там всего - 43 смерти… Русский читатель этих фоновых смертей, как правило, не замечает.
А японцы - замечают. Значит, это их какая-то особая заточенность, особая нацеленность на смерть. Они видят всех, кто умирает.
И они спрашивают: «Почему так много смертей? Почему так много убийств? Это что, ваша национальная литературная традиция, чтобы умирали почти все персонажи?» В «Бесах» всего 39 персонажей и треть из них — погибает. Апокалипсическое число: третья часть деревьев сгорела, третья часть вод сделалась полынью…
Японцы это заметили. Видимо, сказалась их «самурайское» мышление. Они чувствуют гибель, знают ее запах и вкус» (литературовед Людмила Сараскина).
«Нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ рекомендует молодому поколению взять в руки «Бесов». Харуки Мураками среди трех самых важных книг в своей жизни наряду с «Великим Гэтсби» и «Долгим прощанием» приводит «Братьев Карамазовых». В 2004 году выходит небольшое издание под названием «Книги, которые преподаватели Токийского университета рекомендуют первокурсникам» с последующим ежегодным обновлением. Не обновляется лишь высшая строка рейтинга - «Братья Карамазовы», а всего Достоевский упоминается среди первой сотни 5 раз. Больше, чем Сосэки Нацумэ, самый почитаемый японцами отечественный писатель, больше, чем вообще кто-либо» (Сергей Волковский).
Послание путешественнику
 Мы на пограничной станции между личным, социальным и архетипическим. При этом личное и социальное поле перегружено семейными, родовыми и национальными травмами, объясняющими социально-историческое происхождение зла. Станция «Достоевская», открывает путешественнику путь Игры и архетип Эроса, сила которого только высвобождается из оков Танатоса.
Мы на пограничной станции между личным, социальным и архетипическим. При этом личное и социальное поле перегружено семейными, родовыми и национальными травмами, объясняющими социально-историческое происхождение зла. Станция «Достоевская», открывает путешественнику путь Игры и архетип Эроса, сила которого только высвобождается из оков Танатоса.
Зло, свойственное человеку Достоевского и посетителю нашей станции побуждает выйти за свои исходные пределы, заданные рамками родительских комплексов и социальных норм. Только совершив «преступление» можно будет увидеть и светлую сторону зла.
В Игре драмы станции «Достоевская» вполне себе реальны. Речь идет о разного рода патопсихологических явлениях — расщеплениях, проекциях, агрессивных компенсациях — обо всех тех, повреждениях, которые ведут к убийству души и самоубийственному отказу от зрелости. Душа остается в детском состоянии мрачной зачарованности насилием, запертая в родительских комплексах как птица в клетке. «Достоевская» показывает, что эти комплексы связаны с национальной историей и не могут быть компенсированы образованием, интеллектом, талантами, служением другим людям, моралью или нравственностью как ее понимают в обычном человеческом смысле.
Все эти хорошие вещи оказываются во власти архетипического зла — сил Танатоса и искажаются до неузнавания. Мораль под влиянием страза смерти становится рабским рессентиментом и злобой к тем, кто живет в другом более светлом мире, нравственность, испорченная деструкцией становится неврозом, служение — принесением себя в бессмысленную жертву, а невинность и чистота детской души оказываются растоптаны.
«Эта женщина в центре – что то в ней есть холодное… как в зеркале… или как будто на изображении – два мира «абстрактный» (или «идеальный») … рай и ад. Т.е. – то что изображение мужчины в рамке и обведенное цепью – оно как будто бы про «ад», а вот женщина в центре – при всей отрешенности и какой то созерцательности – это картинка «рая»… И то и другое – идеальные или «мыслительные» персонажи… А сама реальность в том, что есть на столе… Какая то простая и довольно грубая еда на столе, грозовые тучи на заднем фоне – как будто бы это окно в Петербург… И как то это связано с верой… На визитке есть христианский крест, достаточно большой, такой по размеру можно представить на одеянии у священника во время богослужения…
Вот это цветаевское: «И будет жизнь с ее насущным хлебом…» – как будто бы это и есть в «реальности» визитки» (Е., участница Игры).
В работе с проблемой, вызванной вековечными устоями не может быть терапевтических методов из арсенала эго-психологии. Исцеление становится возможным лишь вследствие переживания сверхличного нуминозного опыта, который находят на каторге, в войне за Родину Мать, в самоубийствах - инцестуозном стремлении к Матери Земле, но наступает оно лишь благодаря открытию Эроса.
В этом смысле Cтанция "Достоевская" является переходной к исследованию целительной силы Эроса и к поиску нравственных ориентиров, заданных архетипом Духа.
Кино
Идиот (1951), Преступление и наказание (1983), Даун Хаус (2001), Путевой обходчик (2007), Три женщины Достоевского (2010), Достоевский (2011), Братья Карамазовы (2013)
Иллюстрации и киноцитаты на форуме➤➤
Более сотни значимых жизненных тем в трансформационной Игре "Metropolis"
Обратиться к автору: Психологическое консультирование и юнгианский анализ


